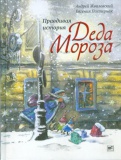К этому предновогоднему занятию я готовилась месяц. Раскрывала книгу, начинала читать стулу напротив, а когда голос срывался и из глаз проливались слезы, захлопывала ее до следующей попытки. Накануне назначенной даты я попросила у знакомой учительницы музыки метроном: нам предстояло говорить о блокадном Ленинграде.
Передо мной дети 8-11 лет. Пока группа собирается, одна из девочек пытается вспомнить название черного прибора: «Пюпитр! Нет... Манометр! Нет...»
Наконец начинаем. Я коротко пересказываю содержание книги «Правдивая история Деда Мороза» и объясняю, что действие разворачивается в Петербурге на фоне событий последних ста с лишним лет. Уточняю у слушателей, знают ли они какие-то из этих событий. Они наперебой отвечают: «Великая Отечественная война! Революция! Вторая мировая война! Эта, как ее... Бородинская битва!»
Мы с детьми пытаемся представить, какие подарки они желали бы получить на Новый год, если бы жили сто или пятьдесят лет назад. «Плюшевого мишку?» – с ухмылкой говорит мой сосед-четвероклассник. Потом переходит на серьезный тон и признается: «Нет, я бы все-таки, наверное, не хотел мишку даже сто лет назад». Старшая из девочек уверена, что ее желание осталось бы неизменным: «Книги!» Остальные слушатели в замешательстве: «Мы ведь не знаем, как тогда жили!» Книга в моих руках позволяет им помочь.
Сначала я читаю историческую справку из начала главы «Очень страшный 1942 Новый год», после чего запускаю метроном и показываю два ритма: быстрый, который звучал из всех радиоточек блокадного Ленинграда при воздушной тревоге, и медленный – для остального времени. Его и оставляю стучать. Вдыхаю... Теперь главное – продержаться. (Помню, как читала эту книгу своим дочкам два года назад. При них плакала, не стесняясь. А они сказали: «Мама, пусть больше никогда не будет войны!» – возможно, впервые осознав, как же это жутко.) Специально не поднимаю глаз от страницы, чтобы не сорваться.
Самых трудных моментов три. Первый – когда Сергей Иванович Морозов, он же Дед Мороз, пытается наколдовать подарок по записке: «Хочу маленький кусочек сахара». Он-то старается, чтобы кусочков получилось много и больших, а выходит точно по тексту, и это повергает волшебника в отчаяние. Второй – когда Маша, супруга Сергея Ивановича, в завершение новогоднего пира с настоящим супом, целой тарелкой вермишели и чаем с печеньем вносит в комнату коробку конфет, случайно найденную на антресолях. Вопреки ее ожиданиям, дети не визжат от восторга: «Они со слезами на глазах смотрели на коробку, они гладили ее, рассматривали, обнимали. Потом, когда взяли по одной конфетке, смаковали их, облизывали, растягивали удовольствие». И третий момент – когда Морозов рассказывает жене о самом страшном: «Я пытался поймать детские желания. А они ничего не хотят… Они хотят, чтобы было тепло и не хотелось есть». Деду Морозу в этот Новый год нечего наколдовать под елочку.
Завершаю чтение на том, как «уже не Дед Мороз, а Сергей Иванович Морозов работал, работал и работал» для того, чтобы приблизить победу.
Слушали меня тихо и сосредоточенно. Наконец я останавливаю метроном и спрашиваю, что было непонятно. Одна из младших девочек (ей девять) сразу поднимает руку: «Что за карточки?» До этого у меня в руках была книга, выпущенная издательством «Время», но теперь я беру издание «Лабиринта». Дети внимательно рассматривают на картинках репродуктор, печку-буржуйку и карточку на хлеб. Читают и комментируют: «400 граммов. Всего 400!» – но вряд ли понимают, сколько это на самом деле. И я достаю буханку хлеба (конечно, совсем не того, блокадного, а сегодняшнего), нож, доску и весы.
Никто из ребят не решается резать хлеб, даже старшая девочка: «Я немножко умею, но лучше все-таки вы». Мы выясняем, что 400 граммов – это чуть больше половины буханки. Но в ноябре-декабре 1941-го паек для детей был другой: отрезаю от предыдущего куска ровно 125 граммов. Одна из мам вполголоса говорит дочке что-то о родственниках-блокадниках и о том, из чего тогда состоял хлеб. Старшая девочка явно лучше остальных разбирается в теме: она рассказывает о пожарах на продовольственных складах в начале блокады. Мы обсуждаем, как менялись нормы и почему в самом конце декабря 1941 года они стали расти. Дети делают нелепые предположения. Намекаю на зиму. Старшая хлопает себя по лбу: «Ладога!» – взрослые подхватывают, наперебой рассказывают о Дороге жизни и бомбежках. Младшим неясно, что же ели те, кто сбрасывал бомбы...
В завершение встречи раздаю каждому по кусочку сахара-рафинада – конечно, совсем не «того», – и желаю осуществления всех желаний. Мы немного обсуждаем «тот» сахар; разговор течет, и вот уже начитанная старшая девочка сообщает, что метроном изобрел Бах, а мама – та, с родственниками-блокадниками, – интересуется, что за авторы у «Правдивой истории...». В итоге мы с той самой девочкой (ей почти двенадцать), наперебой расхваливаем книги Жвалевского и Пастернак. Остальные разглядывают подарочную «Правдивую историю Деда Мороза», изданную «Лабиринтом»: листают картинки, раскрывают окошки. Чей-то младший ребенок выплевывает сахар и просит у мамы кусок черного хлеба, который все еще лежит на доске...
Я выдыхаю. Метроном молчит. Живем.
Мария Климова